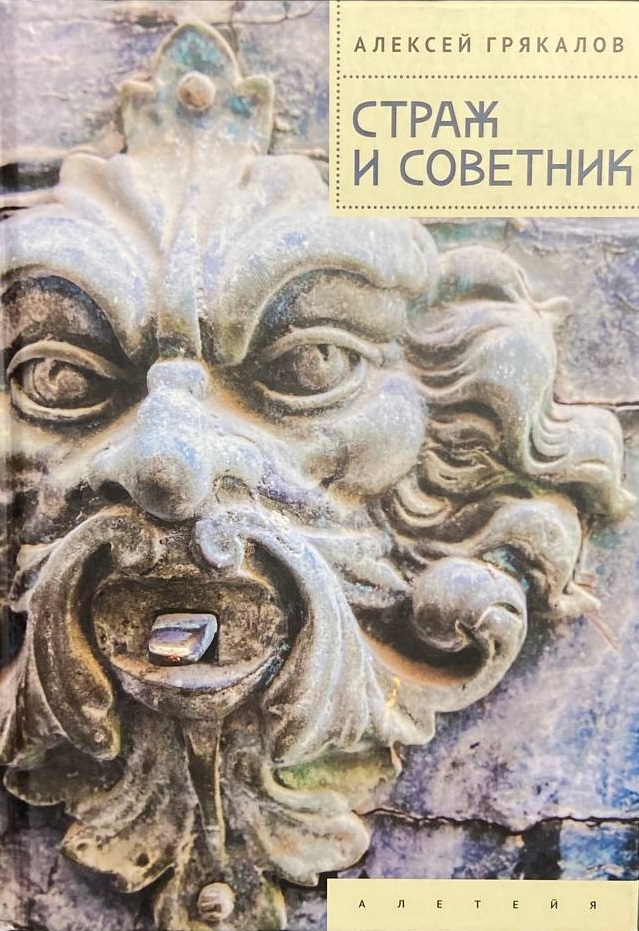174 просмотров за всё время, 3 просмотров сегодня
Рецензия на книгу А. А. Грякалова «Страж и советник. Роман-свидетель». СПб.: Алетейя, 2024 – 440 с.
26 апреля 2024 года состоялась презентация романа-свидетеля – особый жанр,  придуманный Алексеем Алексеевичем Грякаловым, – «Страж и советник» (СПб.: Алетейя, 2024). Издатель «Алетейи» Игорь Савкин подарил добротно изданную книгу.
придуманный Алексеем Алексеевичем Грякаловым, – «Страж и советник» (СПб.: Алетейя, 2024). Издатель «Алетейи» Игорь Савкин подарил добротно изданную книгу.
Лирический герой Алексея Грякалова – свидетель радикальных перемен, не отчужденный регистратор, а вовлеченный, со-вестливый (в им же объясненном смысле, как благая весть – со-весть о пришествии Христа), переживающий, взрослеющий, размышляющий. Он всматривается в молох власти, с которым столкнулся студент-первокурсник, вызвавший интерес спецслужб, одно название которых пугало интеллигенцию. Жанр романа-свидетеля не столько искажает чистоту логического вывода, ибо «погас свет рационализма» (427), сколько, ярясь против стерильности, в результате безжизненного пространства, смиряет и одомашнивает время, делая истории живыми, а мысли краткими и сильными, как гномы, т. е. в духе кратких высказываний досократиков, и сильными, как мифологические рудокопы.
Автор – мастер подмечать характерные, но не бросающиеся в глаза мелкие детали («губы и удила [коня] в бело-зеленой пене от молочая, а ноздри в черных пятнах от чернозема» (с. 89)), вовлекающий читателя в игру достраивания целостной картины из характерных деталей. При этом их интимность создает эффект очеловечивания фигур Стража, Советника, Президента, Царя, Левиафана. Но роман не остается в границах чистого переживания, в нем важен умный взгляд автора. Услышав единожды истории Грякалова, трудно не узнать его голос, его интонацию, его заражающие удивление, восторг и неизменную самоиронию. Личная интонация – неотъемлемая часть удовольствия от книги. Но вот парадокс: голос узнаваем, а мир описываемый, вовлекающий событиями, пусть уже и знакомыми – нет.
Собирая воедино личные свидетельства и дневниковые записи, размышления и философские комментарии, роман обретает качество эпичности. А равноудаленность от чистой линии саморефлексии, с одной стороны, и автобиографического факта – с другой, заостряет их несводимость, побуждая концентрироваться на том, что между: на дефисе, на удержании в каждом сюжете, в каждом комментарии и авторском отступлении интонации автора. Недаром вид слова с дефисом именуется полуслитным написанием. Но сколь ни краток путь, сколь ни быстр разум и сильно желание – перейти на другую сторону черты без утраты целого, составленного из половинок полу не удается никому так же, как не переступима черта метафизического порога: бытие, ничто, смерть. Но дефис столько же раздваивает однородное, сколько и стягивает различное: бытие и событие, чувство и сочувствие, весть и совесть, знание и сознание, жжение и сожжение.
Художественная литература – это не прояснение, а, следовательно, ослабление мысли: напротив, описывая характерные события, ситуации и вещи, она приоткрывает невыразимую глубину мысли, умалчивая при этом о чем-то очень важном. Но и писатель без вымысла не может прояснить наше существование. Роман, как и картина, которая, по словам Ренуара, «не должна “пахнуть” моделью», не может остаться регистратором событий, копией повседневности. Фантастические образы намного правдивее, чем самые точные описания жизни.
У Алексея Грякалова практически нет предисловий, предуведомлений, подготовки сцены. Часто все начинается с вопроса, а закачивается кратким утверждением, смысл которого раскрывается в странноприимном пространстве, где ранимые писатели и невостребованные мыслители обретают редкое взаимопонимание, в котором каждый мог увидеть мир глазами другого. Но удержать это экстатическое состояние, не утратив остроту взгляда другого, не впав в привычно-недоверчивое, а в пределе неверующее – по Грякалову – состояние, крайне трудно. Для этого нужен масштаб творца в равной мере неравнодушного ни к событиям личных обстоятельств, давший ему неоценимый жизненный опыт, ни к ставшим своими мыслям древних философов. Странноприимность возникает из сопроникновения писателя в философа или, что здесь равно – философа в писателя: его мысль обретает черты тактильности, а переживание – метафизическое измерение. На исторические прецеденты указывает Петер Слотердайк, размышлявший о Ницше, который «не был, подобно многим художественным личностям, одновременно писателем и музыкантом, поэтом и философом, практиком и теоретиком и проч.: он был музыкантом как писателем, поэтом как философом, практиком как теоретиком. Он не занимался двумя вещами сразу – делая одно, он именно тем самым делал другое»[1]. Что ж, эта формула применительно к Алексею Грякалову верна, он – философ, пишущий как писатель, и писатель, мыслящий как философ.
Стоит ли подчеркивать, что под романной фабулой кроется философская критика той драмы истории второй половины ХХ – начала ХХI века, которая разыгрывалась на глазах у автора. Речь о причинах вражды единого народа, вылившихся в гражданскую войну бывших родственников, друзей, сослуживцев. Автор – в который уж раз – убеждает нас, что не все может быть рассмотрено и осмыслено в свете чистого разума, что всегда есть остаток человеческого: «пища, враги и паразиты» (114) – «слишком человеческого», сказал бы Ницше, ибо когда «Ты грязный, значит, ты живой (183), удивляет нас автор. Читать роман медленно и получать удовольствие можно не будучи каратистом, бадминтонистом, философом, поэтом, советником, другом сенатора, успешным любовником, казаком с Дона, кочегаром. Писателю дан дар в нескольких словах создать картину, откликающуюся в моей памяти, а особые слова (притягивающие и останавливающие взгляд, одни из них приходят из памяти детства, другие – из философских штудий, третьи привлекают точной метафорой и метонимией, попадают в средоточие удивления-наслаждения. Вот, например, как описывает он любовное томление юности: «Головушку вдруг склонила к нему на плечо. Вился под ногами ужонок, рой пролетел – на лету трутни спаривались с молодой маткой раз в жизни, шмели вползали в лона цветков. Пауки растянули тенета, чтоб ловить (107)».
В 13-й главе – случайно ли? – «Талант тройного зрения» романа обнаружил особый и, что бывает редко у писателей, самоартикулированный метод автора. Приведя строку Георгия Иванова: «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья», Грякалов приходит к выводу, что для реализации его замысла «нужно не двойное, а тройное зрение. Смотреть вперед, назад и еще обязательно следить за самим собой и за всеми» (132). В утрачивающем прочные, казалось бы, еще вчера ориентиры и безусловные ценности времени навык смотреть и вперед, и назад одновременно уже не помогает. Следует всматриваться в судьбу отдельного человека и общества в их взаиморасположенности. Его – скажу – топосы поколенчески узнаваемы: не след ли это увлеченности структурализмом писателя: «Сайгон», художники, карате, вербовщик, Единорог, Президент, Домовой? Но реакции и поступки лирического героя – ожидаемо авторские, то есть – непредсказуемые. Не оттого ли, что он следит за собой, всеми нами тройным зрением из глубины своего неравнодушия и сочувствия: «только тот начинает видеть и понимать, кто сам подобен Левиафану» (115). Взирая на ситуацию глазами вербовщика, партизана, стража и советника, на их мотивы и помыслы, он оттачивает талант тройного зрения и это триединство взгляда органично и не выспренно.
Казалось бы, отдельные пассажи о природе любви, войны, свободы и ответственности, затравленно оглядываясь на историко-философские сюжеты, препятствуют глубоко личному, интимному восприятию, усиливают удовольствие от текста. Косвенным подтверждением сказанному является присущая автору манера вовлечения читателя в проблему выбора, примером коего неочевидность вопроса: «А умиранию демократии нужно только радоваться?» (265), «От органики путь к фашизму?» (266), «Ад есть?» (44), – придает фабуле романа дополнительную интригу. Но в конце романа автор убивает ее, предоставляя ключ дешифровки приема: «– Ты глухой? – не спросил я. – Ты глухой!» (393). Так рождается прием логически не строгого, но эстетически обоснованного утверждения в форме вопроса. Собственно говоря, дело не столько в том, что убеждающая сила аргумента дается под маской вопроса, требующего соавторства читателя, сколько в том, что логика встреч и событий, авторских размышлений с необходимостью приводит к провокационному афоризму: «никто не верил, что человек может верить» (180), «Но вера – особое зрение» (345), «Служить надо тому, в ком сила» (181), «неужели нужна очередная война?» (379), «Из-за равенства проистекает взаимное недоверие» (179). К слову, последнее утверждение стало манифестом антидемократизма Норберта Больца[2]. Но война всех против всех – не самый большой грех перед лицом неразличимости и равнодушия всех интернет-пользователей, коммуникантов, «офисного планктона» – это как раз те слова-позывные, которыми, согласно укротителю Левиафана, «именуют вещи и окликают людей» (177). У планктона нет ни волчьего масштаба, ни волчьего аппетита.
Среди модных все еще остается тема Другого в связке с заботой о себе – изнанки невыносимого бремени свободы, – которые продуманы изнутри Западной ситуации. По Лакану, «бессознательное – это дискурс другого». На отечественной почве Другой отреферирован, но не отрефлексирован. Согласно В. А. Подороге, Другой «это все то, что мы есть независимо от того, что мы думаем по поводу себя и других». В популярной версии Другой – это враг, а враг востребован тогда, когда нужна консолидация общества. Редуцировать Другого до врага, до воплощенного зла и нигилизма – позиция крайне востребованная в ситуации внутреннего кризиса. Исторически в «мы» полагалось все положительное, то, что не может быть у «они», со временем получившим имя Другого. Это делает легитимным исключение, санкции, запреты и игру на поражение. Географически для европейца Другой обретался на Юге, где у людей не было души, на Востоке, где душа коварна и безжалостна. Здесь Другой имел враждебную силу и несовместимую мораль. Но Другой в качестве врага – это абстракция. Кто в образе Другого видит только врага, мешающего заботиться о себе, не обнаруживая близкого, невольно оказывается вне своей цивилизации, вне своего прошлого, переходит на чужую сторону, играет по чужим правилам, полагая их единственными. Иными словами, кто ищет Другого, тот ищет консолидации внутри своего общества, а тот, кто у врага находит черты человека, а в Другом – себя, Друга, тот стремится к единству, расширяя границы своего мира. Грякалов мыслит изнутри целого, обращаясь к своему миру детства, когда язык, люди, нравы были едины, когда кровь смешивалась по принципу избирательного сродства, проще говоря – любви. Когда он описывает детство, тогда в его речь активно вторгаются украинские слова, понятные большей частью без перевода, создается особая атмосфера, которая без потерь не переводима на язык другого жанра. Настоящий текст всегда умнее автора. Нынешнюю вражду, разгоряченную войной, Грякалов продумывает как метафизическую проблему, и в тоже время как остро ранящее близью событие: «Война-чума идет совсем недалеко за Северским Донцом» (375).
Убеждаюсь в оригинальности авторского подхода, когда он ставит в неожиданные ситуации Василия Розанова, Владимира Соловьева, Бердяева, Макиавелли, Гоббса, вынуждая их говорить о друге, войне и враге. Они же дают ему силы сопротивляться господствующей позиции нашего времени, которую выражает его герой: «А я живу так, как будто ничего не произошло, зарплата советника еще продолжает капать» (303). Его герой не герой, но все же он находит в себе волю отказаться от зоны комфорта и задаться поиском ответа на вопрос: «Как примирить великороссов и малороссов? – тут как тут Розанов. Только пониманием, терпением и любовью. Нужно друг друга беречь, нужно беречь не только деловым образом, но мысленно, не заподозревать, не приписывать худых мотивов и худых поползновений» (61). Но, словно споря с собой, с Розановым, он бросает в сердцах: «Любовью нельзя остановить войну» (126).
Гражданская позиция русских мыслителей воплощалась в письмах и проектах Правителям, в коих речь шла об улучшении дел в Отечестве. Вчитываясь в «Стража и Советника» – обе фигуры с большой буквы, – понимаю их равнозначность и прихожу к выводу, что это понимание не может быть без приятия авторской интонации. И, как впервые влюбленные жаждут увидеть мир глазами другого, встроив в свое видение-понимание взгляд автора, понимаю и то, что подобная смена оптики случается тогда, когда, зачитываясь, встречаешься с открывающимся тебе по-новому миром. На страницах «Стража и Советника» подобная встреча случилась неоднократно, оставляя стойкое пост-видение, пост-переживание и пост-размышление.
Примечания
[1] Слотердайк П. Мыслитель на сцене // Фридрих Ницше. Рождение трагедии. М.: Ad Marginem, М., 2001. С. 556.
[2] Больц Н. Размышление о неравенстве. Анти-Руссо. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 272 с.
© В. В. Савчук, 2024